COP30 в Белене: адаптация — в фокусе, «отказ от ископаемого топлива» — в тени
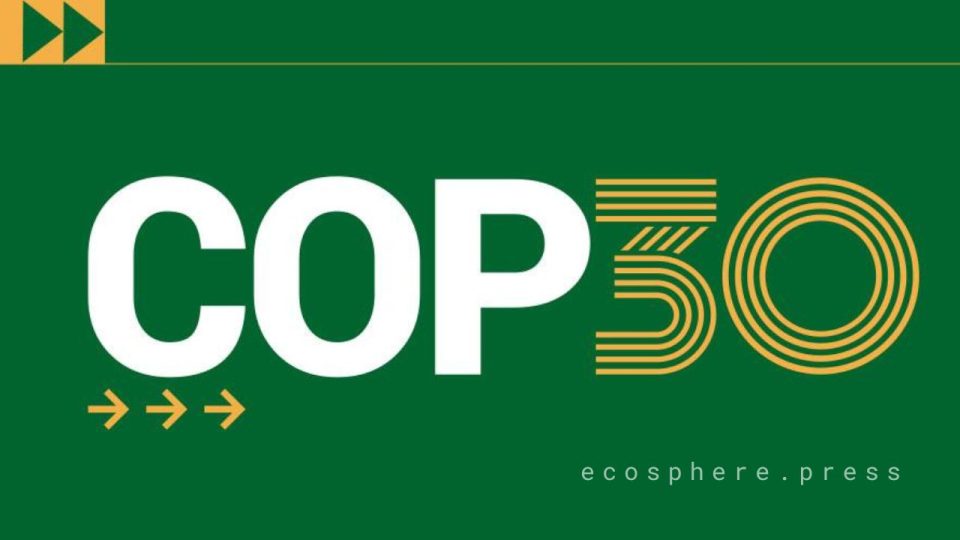
Несмотря на экстремальные погодные условия (подтопления, пожары), демонстрации коренных народов и напряжённые дебаты, сторонам удалось договориться по ряду системных вопросов. Однако ключевой политический импульс — призыв к поэтапному отказу от ископаемого топлива — в итоговый документ не вошёл.
Что принято
59 индикаторов адаптации утверждены как основа для оценки эффективности проектов, направленных на повышение устойчивости к климатическим рискам. При этом часть показателей — включая оценку угроз биоразнообразию — оставлена на усмотрение стран: вместо единых стандартов (например, от IUCN) допускается использование национальных «маркёров». Это компромисс между научной строгостью и гибкостью для развивающихся государств. Финансовая цель по адаптации: к 2035 году — как минимум утроить объёмы поддержки для уязвимых стран. Для контекста: в 2023 г. объёмы финансирования адаптации составили ~$34 млрд при целевом показателе в $40 млрд к 2025 г. (договорённость COP26 в Глазго — удвоение с $20 млрд 2019 г.). Запущена разработка Беленского механизма справедливого перехода (BAM): он призван обеспечить компенсационную поддержку регионам и сообществам, пострадавшим от климатической трансформации — например, угольным шахтёрским посёлкам или фермерам, вынужденным покидать опустынивающие земли. Механизм ориентирован на наименее развитые страны.
Главная точка разрыва
формулировка об отказе от ископаемого топлива. Впервые такая фраза появилась в финальном документе COP28 (Дубай, 2023), но в Белене консенсуса достичь не удалось. Поддержку инициативе оказали лишь ЕС и часть латиноамериканских государств; Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие выступили против.
Эксперты интерпретируют это как признак смены геополитического баланса: если ранее драйверами декарбонизации выступали страны «Глобального Севера», то теперь всё большую роль играют финансово устойчивые государства «Глобального Юга», настроенные на многовекторность — включая развитие ВИЭ, ядерной энергетики, технологий улавливания CO₂ и сохранение природных поглотителей (лесов).
Особую роль на COP30 сыграли представители коренных народов. Их требование о прямом участии в принятии решений, затрагивающих территории проживания, привело к инциденту: активисты прорвались в конференц-центр, потребовав прекращения вырубки лесов под аграрные и горнодобывающие проекты. Организаторам пришлось задействовать армейские подразделения — редкий для климатических саммитов прецедент.
Российская делегация была малочисленной; российский павильон не работал. В выступлениях акцент сделан на:
сохранении лесов как ключевого климатического актива; доступе к финансированию, технологиям и открытым рынкам; поддержке «широкого спектра решений» — от ВИЭ до АЭС и CCS; необходимости справедливого перехода без шоковой декарбонизации; критике односторонних торговых барьеров, включая CBAM ЕС.
COP30 не стала «моментом истины», но закрепила тренд: адаптация и справедливость выходят на первый план, опережая даже вопросы сокращения выбросов. Конференция показала, что климатическая политика всё больше зависит от реалий Юга — и её успех будет измеряться не только тоннами CO₂, но и жизнями, которые она защищает.